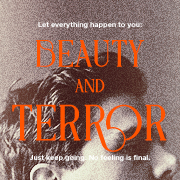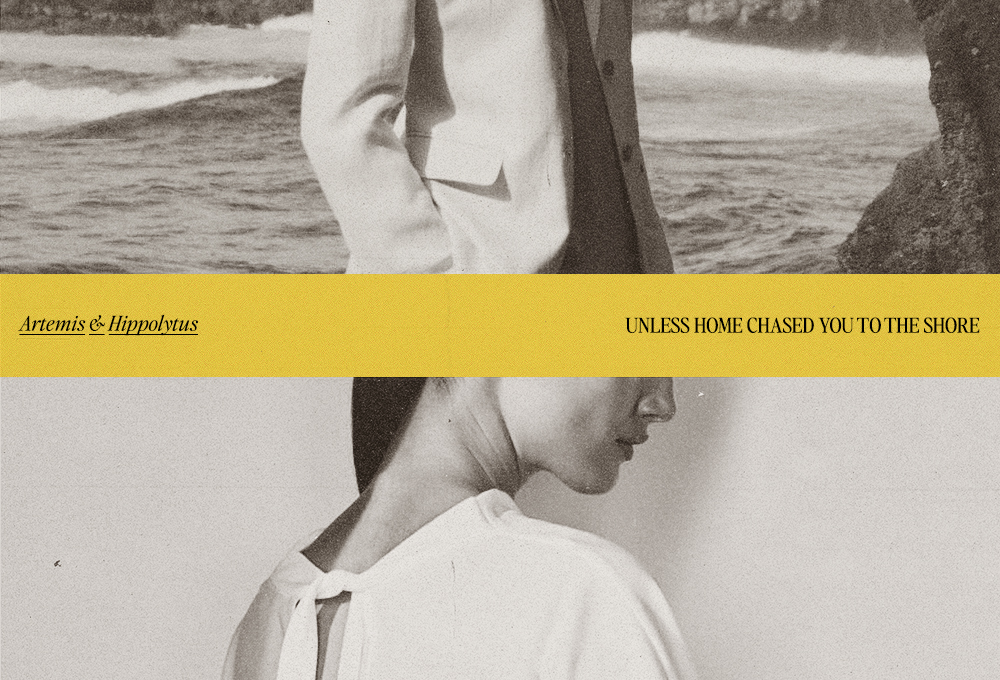прототип: blanca padilla;
artemis [артемида] когда-то: богиня, одна из 12; потенциально бессмертна; как владычица зверей способна обращаться в любое животное и обращать в животных других, как покровительница всего живого в общем смысле — управлять природой; стреляет без промаха; способна заражать людей и исцелять от болезней. убийца исподтишка. |
[indent]«А если заставить его смотреть прямо на самый свет, разве не заболят у него глаза и не вернется он бегом к тому, что он в силах видеть?»
Когда она выходит из такси, растерянная и одновременно собранная, тусклый свет фонаря выхватывает из сумерек незнакомую улицу; Делия думала, что узнает дом, в котором они с приятелями провели прежде столько времени, но он стоит неподвижно и почти насмешливо, как любой предмет, который ты видишь впервые. В самолёте ей удалось задремать — сон поверхностный и едкий: удавленница протягивает руки, оборачивающиеся петлёй на шее Делии; она резко просыпается, и запутавшийся провод наушника свисает с плеча сытой змеёй.
Порой её волю трактуют как милосердие, но не было никакого милосердия в смертях на Сире — быстрое пресекание жизни, безболезненное, тихое, но неотвратимое — Артемида не наслаждается чужими страданиями и к колчану тянется всегда с одной целью. И жизнеубийство, и жизнерождение — она спускается с гор по зову страдающих рожениц, чтобы помочь им разрешиться от бремени; она же сменяющая Солнце Луна и её свет, помогающий в ночи различать предметы явственно и упорядоченно.
Делии снится безмолвный гнев, полный отравы, клочья темноты, расступающиеся под ногами, собачий лай и свист ветра; по утру во рту горько — не то от снотворного, не то от привидевшейся крови, и Делия лежит так какое-то время, смаргивая образы. Снизу доносится раскатистый раблезианский смех подруги, всегда отрезвляющий — так начинается утро настоящее, связанное с действительностью и чужим присутствием. На кухне пахнет кофе и розовым табаком; даже в холодное время года они курили, вытягивая руки в окно, и все эти знакомые ритуалы счищают сон с поверхности дня, как бронзовую болезнь с монеты, но к вечеру Делия всё равно тускнеет.
Как Артемида подменяет Ифигению ланью, избавив алтарь от человеческой крови — микенский царь расплатится, но по-другому — так и Ифигения, назначенная жрицей в Тавриде, приносит в жертву пленников, потерпевших кораблекрушение у их берегов. Священный огонь безразлично слизывает тела, а кровь на мраморе не высыхает; Ифигения и сама просила о смерти, и смирилась с ней, но Артемида решила иначе.
Делия никогда не боялась солнца — ни по-зимнему равнодушного, ни летне-свирепого, а защиты и покоя (может, по праву рождения) привыкла просить у моря; все знаменательные события жизни она помнит чётко, как дни местных святых и даты наполеоновских войн, но в последний месяц всё размывается, будто береговая линия — Делия пытается вспомнить встречу, слова, незнакомку, но с каждым днём сны становятся чётче, а реальность бледнее. В некоторых местах видно швы: в углу комнаты ей чудится усмешка, темнота словно из глины возводит очертания — Делия знает, что всего этого нет, и спасается этим знанием.
Земля трепетала перед Лето, боясь принять Аполлона и Артемиду — так всё и началось, со страха и отвержения. Доверяет Артемида только брату — как ночи нет смысла бояться дня, так и половина не солжёт, а дополнит; и смертные, и даже боги при виде Аполлона застывают, скованные ужасом — трепетал и Делос, и любая природа. Артемида никогда не отводит взгляд — возвращаясь с охоты, она занимает место рядом с ним.
Семье Делия ничего не сказала: с братом они не близки (как-то в детстве она неудачно над ним подшутила, и с тех пор не может отделаться от ощущения, будто в глазу у него, как льдинка, гнездится страх), с родителями чуть сложнее (независимость пришлось отвоёвывать не самыми честными способами, и с тех пор дома прохладно, как в зимний вечер). На Гданьск она отвела две недели — даже самая выверенная байка, сочинённая для университета, не выручит ей больше; не выйдет оправиться — справится как-нибудь ещё, всегда же как-то справлялась.
Зевсова борода колючая даже с виду (мягкостью, думает Артемида, его не возьмёшь) — ускользает из пальцев, когда она не просит, но требует подарков. Ей, разумеется, положено: столько же имён, сколько у брата, короткий хитон (потом говорят, что подпоясывает она его по-мужски), амнисийские нимфы, все горы — а вот города почти безразличны; серебряный лук и колчан стрел ей выковали киклопы — им она и обещает первую убитую дичь. Гончие перелаиваются голосами звонкими, как пустой сосуд, керинейские лани делят пастбище с конями Зевса; Артемида улыбается: кто не постиг искусство охоты, тому не постичь искусство войны.
Несколько лет назад она подумала, что тоска, должно быть, неотъемлемое свойство конституции ума — не всякого, а лично её; во всём ей чудилось неподвластное таинство, насмешливое и ускользающее. Будто есть какой-то секрет, который она никак не может разгадать, вонзившийся в мысли, как заноза — иногда Делия цепляется за неё, настороженная встречей, но никак не может извлечь. Во сне беспокойно вращающийся солнечный шар заглядывает в горное ущелье, и свет застилает речную гладь; Делия смотрит в отражение и видит кого-то другого, а за ними — темноту.
[indent]«Я мог бы рассказать ему про скрипку-восьмушку, молчаливого целовальника, лунную аскорбинку, отсыревшую пианолу, бумажные панамки стишков, и про то, как плохо рассказанные воспоминания изменяют прошлое, а плохо придуманные — будущее.»
renouncing, I would choose the fate of obedience.
I would suppress my wolf's eye and greedy throat.смотреть на солнце, не морщась, не поддаваясь ему, не позволяя ни единому лучу пройти мимо глаза, пока сам шар не начнёт пульсировать, вращаться, синеть и всячески подмигивать и подпрыгивать, не в силах оторваться от небосвода; хепзиба не отводит взгляд, мысленно стряхивает остатки полудрёмы, добрую минуту выжидает перед тем, как оглянуться на гилбарда, беспощадно терзающего ножом яблоко — по вельвету его брюк скачут бусинки кислого сока, с ножа ныряют поглубже в траву, и он увлечён настолько, будто в мире нет больше никаких дел. хепзиба наблюдает, впитывает, учится — так прикипают взглядом к прокажённому, чтобы выведать секрет его спокойствия и смирения; всякая трагедия рано или поздно превращается в обстоятельство, и тогда, наверное, её можно пережить (пожалуйста, пусть так и будет). искать своё отражение можно бесконечно, думает она; гилбард в детстве, должно быть, так же усердно орудовал ножом, вилкой, ножницами, свободным — не занятым совершенно ничем — временем, и когда он перестал сторожить порог своей комнаты, когда перестал оборачиваться на каждый скрип половицы — магия и пришла. его лицо насмешливо и безмятежно, а в следующую секунду непроницаемо, будто он хотел выпустить какую-то остроту, но передумал, сочтя недостойной. хепзиба сглатывает, для чего приходится вообразить, будто в горле не пересохло, и достаёт из зачарованной гилбардом сумки артефакт. к врагу, уже тебя истерзавшему, страха не питаешь (однажды она задремала, и страницы книги отпечатались на её лице — и смелость, и глупость).
гилбард пытается сдержать рвотный позыв.
I would give myself to one task only.
which then, however, could not be accomplished.хепзиба хорошо помнит, что она ощутила, когда впервые увидела книгу, и как многолетняя привычка плевать на собственный страх — буквально плевать и тушить его, как сигарету о мусорный бак — оказалась действием, доведённым до автоматизма; глупостью, обратившейся в правило. так мёртвое тело с первого прикосновения ощущается как мёртвое, подумала она сжимая руки, переступая через отвращение, заранее довольная собой, потому что не каждый день пересилишь себя перед такой мерзостью, и именно победой над мерзостью хепзиба всегда гордилась. отсутствие брезгливости в том, что может тебя запачкать, делает хепзибу исключительной. смелой, выносливой, необыкновенной. всё это она выцеживает из собственной головы, когда магия перестаёт отзываться, на третью или четвёртую луну, невыносимую, как и всё живущее по не зависящим от хепзибы законам. молочный серп остаётся размытым остаточным образом на глазах, которые нет сил ни раскрыть, ни закрыть, и к середине второй бутылки огневиски она понимает, что всю жизнь заходила в горящие дома просто так, не понимая, зачем — потому что могла, потому что (ну конечно) не каждый может зайти, а она может, и не боится ни испачкаться, ни потеряться, ни заблудиться, ни сдохнуть где-нибудь под обвалившейся балкой, и вся жизнь превратилась в зачарованность продавливанием самой себя. заглушить инстинкты, победить боль, высмеять страх, оставить тревогу — постоянную, фоновую, дребезжащую — без внимания, словно если от неё отвернуться, потом можно будет сказать, будто тебе и не было страшно.
лицо гилбарда в момент первой встречи с артефактом обратилось в фарфор, в безжизненную иссушенную маску, и хепзиба сравнивает это воспоминание, вгрызаясь взглядом в лицо луки — с гилбардом у них ничего общего и родного, кроме страха, заложенного в самом магическом фундаменте. хепзиба лопает языком подкативший ком тошноты, проглатывает восторг, опускающийся обратно по пищеводу; пальцы цепляются за стакан, другой рукой она тянется к книге, покровительственно накрывая её ладонью, бережно и нежно, с тем же насмешливым 'да она не кусается', что бросают прохожим, выгуливая невоспитанного пса. хепзиба улыбается, на этот раз — серьёзно и спокойно (такие улыбки не прикасаются к глазам, иногда безразличным, иногда омертвевшим), и гадает, о чём думает лука,
вычисляет созданное преимущество,
шумно вдыхает, чувствует, как учащается пульс; по этому ощущению она так сильно скучала, что замедлила бы всю эту сцену раз в десять, чтобы распробовать все эмоции, луку наделить выдуманными — своими — начинить его и страхом, и отчаянием, и тоской, а себя — властью, держать её в своей руке, словно поводок. так заходят в спящие дома грабители, выучившие распорядок дня жителей, заходят полноправно и вооружившись ножом и ночью, оберегаемые коварством и малодушием. вырученное преимущество — трусливое, мелкое, искрошенное. хепзиба побирается всем, что можно взять.лука ей нравится — и тем больше ей интересно, чем всё обернётся и выйдет ли снова втоптать что-то в грязь (переступить через приязнь — всё равно что проглотить страх; если хепзиба поддастся этому, придётся признать себя малодушной). она даже хочет сказать ничего личного, и это, конечно, ложь, потому что пришла она именно к нему.
хепзиба перебирает воспоминания одно за другим, будто не занималась этим всю последнюю неделю, нащупывает, кажется, чужую мягкость, будто и луку сейчас продавит, пока он — серьёзно или же нет? — рассказывает про донора; внутри что-то затравленно смеётся, и она думает о том, сколько действительной власти даёт возможность что-то отнять, не присвоив себе. мысль не отрезвляет. не сейчас.
— не беспокойся за донора, — обещать больше, чем можешь дать — привычка из прежних времён, — это не твоя забота. я спросила насчёт артефакта. что ты хочешь за то, чтобы его изготовить?
в кармане свистит лихое нихуя: хепзиба может достать деньги, выторговать другие артефакты, озадачить гилбарда поставкой килограмма кокаина, но всё это меркнет по сравнению с тем, что она действительно может дать. не отнять.
— думаю, возможность не лишиться магии дорогого стоит?
лука ей нравится — потому приязнью стоит пренебречь.