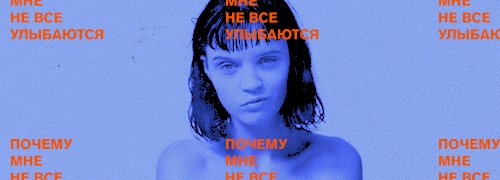 [icon]https://images2.imgbox.com/bf/8d/IJtf4cnN_o.jpg[/icon]
[icon]https://images2.imgbox.com/bf/8d/IJtf4cnN_o.jpg[/icon]
прототип: flo dron;
praskovia [прасковья] наследуем мрак, улыбается, используем чужие тела для чревовещания, красим губы хуёвой помадой, истерим, кричим, кусаемся, швыряемся грузовиками, не поддаёмся перековке, лежим на тахте по вечерам, пьём боржоми, говорим об искусстве. |
В приёмной Лигула висел «Демон сидящий» Врубеля — говорят, для того, чтобы задумались лишний разок и прочувствовали сердце в пятках, хотя все знают, что горбун просто компенсирует. Подлинник, конечно — Лигул со всеми, с кем нужно, на короткой ха-ха ноге, Зельфире Трегуловой на последнее важное назначение подарил какую-то шкатулочку неизвестного назначения, по выставочным залам Третьяковки ходит теперь, как хозяин (что музей, что Тартар — одна беда). Говорят, в ту очередь на Серова подослал пару сотен комиссионеров: они кормили людей тушёнкой и меняли эйдосы на места поближе ко входу, ну и улов!
Прасковья как-то потянула Шилова посмотреть на Куинджи (его внизу тоже очень любят), и 500 рублей, конечно, для такого дела излишество. В будний день (пораньше) у входа обычно никого не найти, и высокое искусство было так близко, так близко, но тем же утром у кассы в Макдональдсе на ботинок Прашеньке упало мороженое, и настроение проникаться тонкими сферами куда-то улетучилось. Шилов, конечно, был недоволен: зря на метро потратились, что ли.
В метро встреченные комиссионеры улыбались и пятились, опуская мягкие лысые головы, и в вагоне с каждой станцией становилось всё душнее — Прасковья тоже улыбалась, потому что Витя с каждой секундой раздражался всё больше и молчал всё страшнее, а ближе к конечной зашёл мужчина в костюме ростовой куклы, и Прасковья громко шептала Шилову на ухо: дай ему сто рублей (разобрать можно было только СТО, потому что с [р] у неё проблемы). Им же зачтётся в Эдеме, да? У мужчины Прасковья хотела спросить: а вы точно попрошайка? (если нет, то, наверное, наверху дополнительные очки к их счёту не прибавят)
Дома Зигя спросил, почему у неё грязные ботинки.Витя, нам новые нужны
Комиссионеры оставляют после себя пластилиновые лужицы — на прошлой неделе она разозлилась на что-то (пошёл в жопу, Шилов) и расплавила семерых, случайно оказавшихся в Мытищах. Несколько часов потом казалось, что к пальцам липнет воздух, и всё пахло вареньем вроде того, что успело засахариться и заплесневеть. Теперь такое тоже можно есть: намазывать на хлеб с маслом, класть в кашу, чай (Прасковья не ест, просто перечисляет в уме) — пластиковый привкус у всей еды, которую она высматривает в округе (Шилов не морщится).
Её раздражает необходимость говорить, хотя говорить не с кем (Зигя умеет ронять руку в водосток и стоять у раковины часами, гадая, не засорились ли трубы: его держим в уме, Шилова сразу вычитаем); интересно, когда они доберутся до света, станет легче? Прасковье беспокойно и хочется запретить себе об этом думать: прийти к свету значит смириться? Смиряться она не хочет: всё неправильно и всё нужно переделать — или других, или себя. Второе знакомо крайне смутно. Проще Шилову перестать кривить лицо, когда она делает что-то не так, и понять, что она всё делает правильно.
Наверное.
(Затея всё-таки глупая)
Прасковья привыкла, что всё вокруг живое, горячее, изменчивое — раньше можно было дёрнуть бровью и кто-нибудь хватался за сердце. Витя вот за сердце хватится, если его насквозь проткнуть, но наверняка сказать нельзя; ей кажется, что это он нарочно — и с каменным лицом нарочно, и с полумёртвым рыбьим взглядом, и выцветшими мыслями (Прасковья как-то подсмотрела вскользь, пока он спал, но рассмотреть успела только бетонную обшарпанную стену). Шилов смотрит так выразительно, будто взглядом старается выразить ничего —
получается отлично, ещё одна мысль в верещащий мешок тех, которые лучше не думать.
Приятнее вспоминать, как быстро зубы покрываются налётом после карамели (она как-то захотела такую, чтобы нёбо не царапалось и гнилостного слоя не оставалось; тут такой нет, за щекой — самая обычная)
Иногда кажется, будто не все воспоминания о Тартаре принадлежат Прасковье - безумие Кводнона втекло в тело вместе с его силами, и пластиковая злоба оказалась там же; хорошо, что им с Шиловым хватает своей ненависти, привычной - когда-то в почву смеха ради посадили ярость, и она выросла настолько светлой, что не сожрала их души. Не сожрала же? Прасковья мысленно тянется к своему эйдосу и проверяет точки в груди Виктора (всё ещё не дырявый) - всё на месте, это ли не чудо? (Шоколадное «Чудо», кстати, просто класс, однажды Прасковья зашла в магазин - подумать только, своими ногами дошла - и его там не было, потому целый стенд «Активии» сначала скис, а потом превратился в шоколадное молоко со странной этикеткой; на Рен-ТВ об этом сняли сюжет, и хорошо, что в России не догадываются о том, сколько стражи позволяют им выпустить в эфир - и никто не воспринимает всерьёз)
(всё, кроме инопланетян - правда)
внутренности трепещут. всё плывет под ногами. а предполагается
по сюжету, что я должен быть спокоен
Иногда кажется, будто не все воспоминания о Тартаре принадлежат Прасковье - безумие Кводнона втекло в тело вместе с его силами, и пластиковая злоба оказалась там же; хорошо, что им с Шиловым хватает своей ненависти, привычной - когда-то в почву смеха ради посадили ярость, и она выросла настолько светлой, что не сожрала их души. Не сожрала же? Прасковья мысленно тянется к своему эйдосу и проверяет точки в груди Виктора (всё ещё не дырявый) - всё на месте, это ли не чудо? (Шоколадное «Чудо», кстати, просто класс, однажды Прасковья зашла в магазин - подумать только, своими ногами дошла - и его там не было, потому целый стенд «Активии» сначала скис, а потом превратился в шоколадное молоко со странной этикеткой; на Рен-ТВ об этом сняли сюжет, и хорошо, что в России не догадываются о том, сколько стражи позволяют им выпустить в эфир - и никто не воспринимает всерьёз)
(всё, кроме инопланетян - правда)а предполагается, что я должен сказать то, что все ждут от меня —
что я буду радоватьсяК дарху тянутся самые гадкие мысли: раньше Тартар ощущался примерно никак, потому что не с чем было сравнить, теперь гуляешь по Москве и что-то не так, конечно. Дарх отзывается послушным жаром, копьё в уголке мыслей - холодом, разумеется, и внизу, оказывается, было так же; Прасковью переполняет настолько жадная злоба, что хоть грызи Виктору дыру в груди (это всё морок, остаточный след угаснувшего сознания стража, но эмоция не блекнет сразу же и в голову Шилова вторгается ещё раньше мыслей самой Прасковьи),
видимо, потому он обозлился - можно взамен предложить остудить злобу копьём, этой идее Прасковья улыбается:
— Там ещё один, — отвечает, кажется, голосом подохшего трупа, но не замечает.
Шилов думает о ворованном воздухе - Прасковья вспоминает литературный консилиум, на котором было столько мерзких и немерзких лиц, что они тоже почти слились в одно, а потом в каком-то учебнике, найденном в книжных развалах Мефодия, она видит Мандельштама и удивляется (разве те, что с талантом, не попадают в Эдем? а вот и нет!). Если рассказать об этом Шилову, тот, наверное, отреагирует примерно никак; Прасковья разрывает их мысли, пока её сомнение не дошло до него - сомнение глупое и какое-то жалкое, ни к чему Виктору знать, что ей есть, чем поделиться кроме воплей раненых чаек и необходимости шоколадного молока в здесьисейчас. На долю секунды она видит себя его глазами, и внутри что-то отзывается тоской: Шилов думает какими-то обрывками мыслей, порой настолько бледными, что даже на фоне незрелости Прасковьи (уже осознанной, но пока не исправленной) это выглядит страшно,
страшно и одиноко, будто он так и не выбрался из подземной пустыни.
На долю секунды ей хочется произнести его имя, чтобы одёрнуть - мы здесь - и идея эта, конечно, глупая и жалкая; Прасковье не хочется идти ему навстречу, как раньше не приходилось вообще никуда ходить (кому нужно - сами придут). Мысль бледнеет.хотя бы всё обрушилось в Тартар
Мысль бледнеет - Прасковья не так уж и вырвалась вперёд, оказывается (это тоже злит). Она смаргивает - чужое тело, сознание, смерть, высокий голос, которым стонет дарх, тянущийся к свободным эйдосам, свои глупые идеи (ЕСЛИ ТЕБЕ БУДЕТ НУЖНО, ШИЛОВ, ПРИДЁШЬ САМ) - обида неумело плещется и разбивается жаром на несколько метров (ДАВАЙ, СКАЖИ, ЧТО Я НЕ МОГУ СЕБЯ КОНТРОЛИРОВАТЬ) - бетонной стене за её спиной уже неловко, если прислушаться, можно услышать, как закипает воздух (А ТЫ РАЗВЕ НЕ ПРИВЫК, ВИТЯ, К ТАРТАРУ)
РАЗ НЕ СМОГ ОТТУДА ВЫБРАТЬСЯ, ЗАЧЕМ И ПРИТВОРЯТЬСЯ, ЧТО ХОТЬ ЧТО-ТО ВЫРОСЛО
Прасковья пытается сжать злобу в кулаке - на её месте должно быть копьё, конечно, и оно на месте, не не одно - не получается - злится ещё больше, ещё дальше, вокруг всё душнее и душнее, в конце концов пугается этой злобы (может, это всё смешение с головой этого дурного стража, а может, действительно твоё - если твоё, то новости, как сказал бы Шилов (ЕСЛИ БЫ НЕ ПРОМОЛЧАЛ, БЛЯТЬ), удручающие, ну да какие есть). Шилов, блять, из них двоих со здоровыми связками и работающей глоткой, а пропихивать через Витю слова приходится почему-то Прасковье (КАКОГО ХУЯ).
Если представить, как отступает ярость или как отчаяние вытесняет холод, копьё попадёт туда, куда нужно? Или будет выёбываться, как всё вокруг (как Виктор?). Хочется топать ногами, как раньше, выдавить из копья всё ледяное и непонятное, и подчинить, приказать, указать (хватит с ним носиться, ебучие тонкие сферы). Не хочется думать о том, что Шилов скажет сейчас об очередной истерике, - Прасковья бьёт его по плечу (подвинься) и тянется шагами к следу второго стража; рука ноет от холода, который постепенно перебирается выше
(почти в голову)
(скорее в голову)
Нехуй целиться - пусть палка стреляет сразу куда надо - Прасковья замахивается, не озаботившись ни верной стойкой, ни расположением рук, ничем (чай не ребёнок), и вместе с копьём посылает в Тартар наилучшие пожелания.
Дальше пусть Шилов сам.




