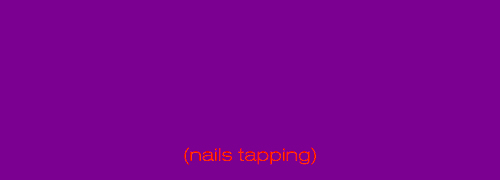[nick]Marlene McKinnon[/nick][status]bleed war[/status][icon]http://forumstatic.ru/files/0019/e7/0f/63557.jpg[/icon][fandom]hp vyeban[/fandom][char]Марлен МакКиннон[/char][sign]мантия, расшитая каплями пустоты, исколотая, израненная.
все в небе, все в неспокойной земле. [/sign][lz]ничего ценнее нет. земля это смерть. запах сырости, мертвой чистоты.[/lz]твоя кровь наш вишневый сад убирайся мертвым
Тремор пиздит палкой по рукам. Марлен представляет, как после войны (выигранной, проигранной, лишь бы было, за что воевать) корреспондентка ежедневного пророка — или кому этот текст меньше подойдёт — в твидовом костюме под шелестящей мантией будет задавать вопросы, закусив уголок губы. Вспышки запечатлевающей аппаратуры, лицо Марлен, пустое и безвкусное, пошлое в романтизированном, оставленном для потомков посттравматическом не синдроме, а образе жизни, лицо Марлен, выгрызенное у самой войны зубами и руками, лицо тусклое, обезображенное отсутствием героизма (читатели считают это за тоску), лицо впалое, опустошённое войной закончившейся (закончилась — щёки нечем накачать).
Марлен растягивает губы, усмешка там или улыбка, хуй разберёт.
— Знаете, моей ролевой моделью всегда была мама, — многозначительный взгляд в дальний угол комнаты, — она заложила когда-то два зёрнышка, маленьких таких, но что из них выросло-то, — залихватски присвистывает пробитым лёгким, — одно выросло в ярость, а другое в то, что ярость душит. Сириус так же иногда делает, но пусть в своём интервью поделится. Это просто охуительно, попробуйте вырастить своих детей так же, я вот лет десять ни о чём, кроме крови и дерьма думать не могу. Кровь в дерьме. Дерьмо в крови, — прерывается на лёгочный свист, — или вот как у вас кровь пойдёт, если быстро палочкой чиркнуть, чирк — и на какую наткнёмся? Венозную? Артериальную? Дурную? А меня есть пожелание, если можно обратиться к вашим читателям.
— Пусть её будет побольше!
Я больной, озлобленный до предела человек, думает Марлен, больной, больной, больной; по лицу корреспондентки ползёт полудохлая, прибитая весенней духотой муха, ослабевшая после зимнего анабиоза, корреспондентка вращает глазами и отсутствующим носом распространяет вонь. Я больной человек, думает Марлен, раз за разом представляя несуществующую корреспондентку и то, начнёт ли гной сочиться из того места, где раньше был нос, если надавить большим пальцем. Должен пойти гной, думает Марлен, очень хочу, обязательно должен, и указательным пальцем задену её щёку,
Ёбаный в рот, думает Марлен, становится только хуже, раньше она не думала о том, что бы делала с трупами, только с живыми. Или лучше так? Как будет лучше, Сириус?
Об этом никто не должен знать — Марлен понимает это с каждым днём только лучше. Никогда не пропускает собрания Ордена, ночевала бы в их штабе, если бы это не вызывало подозрений, просыпалась бы где-нибудь на кушетке, мгновенно ощущая трясущимися руками своё же злобное тело, мелочное, выпотрошенное дебильными фантазиями с самого утра — Марлен засыпает под десятки образов умирающих, мёртвых, убитых ею и не ею, ещё не убитых, но уже испугавшихся ( успокаивает себя: раз ей не интересен их страх, может, не всё потеряно),
просыпается по утрам, тремор никуда не уходит, сидит на краешке кровати, заботливо поправляет подушку под её головой, первые образы дня — самые нечёткие, когда Марлен просыпается, сонная вата забивает самые злые провалы в её голове, и на несколько минут можно отвлечься.
Дальше нельзя.
Пока я не разрешаю этим мыслям меня контролировать, думает Марлен, всё в порядке. Выбирает у Олливандера новую палочку — прошлая сломалась на одном из заданий, и это удобно, потому что на самом деле Марлен её сломала, пока отговаривала руку от Авады (вот это уже непростительно, это не называется в порядке). Марлен сжимала палочку так сильно, что огрызок дерева впивался в ладонь и мечты об Аваде перекрыла мысль о том, как в глазнице пожирателя бы смотрелась рукоять, а потом палочка в голове превратилась в нож, и дело пошло ещё проще, как по маслу, ножом по маслу, да, пожалуйста, нож острый, снимающий лоскуты кожи, они отходят легко и без сопротивления, или нет, должно быть сопротивление, нужно, чтобы они сопротивлялись,
было бы проще, если бы со сломанной палочкой закончилась и магия, но Марлен помнит, как на прошлой миссии мужик с забытой красивой фамилией отлетел к стене дома, когда она просто подумала, и, наверное, если опять увлечься, можно будет устроить так, что голову нового пожирателя размозжит случайный камень или воздух в его лёгких просто закончится, да, так было бы хорошо,
пальцы скрючатся, но по ногтям кислород не идёт, и сердце его тоскливо сжимается, гоняя пустоту, а потом уже ничего не гоняя,
Сириус вовремя его оглушает, Марлен улыбается, пока Сириус не видит.
Выбирает новую палочку, представляя, как из дыры, вырезанной обломком стекла на шее Олливандера, вытекает кровь (что же ещё), всё понятно, всё близко, всё изучено. Это началось ещё в Хогвартсе, и тогда Марлен впервые по-настоящему испугалась, и не кого-нибудь, а саму себя, потому что она больной человек, и нельзя было позволять мыслям свободно гулять в голове, как будто не она тут главная, и не стоило было даже допускать, даже на секунду, что если разрешить мыслям течь вольготно, то они, не встретив сопротивления, отступят и уйдут, растворятся.
Ушёл страх — пришла привычность, ушёл мысленный контроль — остался только телесный.
— У тебя когда-нибудь были навязчивые мысли? — спрашивает у Сириуса, когда вспышки заклинаний затихают.
Я больной, озлобленный до предела человек, правда же.
Руки у Сириуса привычные, злые, знакомые, Марлен очень хочет спросить у него, как часто он думает о том, чтобы кого-нибудь на задании убить, или фантазирует о чужой смерти, и не обязательно даже на поле боя, а просто так, в самом непримечательном квартале Лондона, в пабе, например, когда просто глотаешь огневиски, и он течёт по глотке, а по глоткам всех вокруг — кровь, как тебе представляется раз за разом, раз за разом, раз за разом, раз за разом, ещё и ещё, ещё и ещё, ещё и ещё, опять, снова, раз за разом, кровь везде, кровь вокруг, вместо воздуха кровь, все они умирают от потери крови, пока Марлен заливает в себя почти литр.